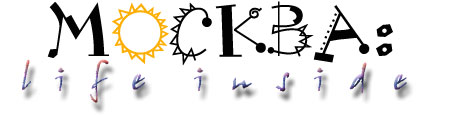|
|
|
|
|
|
|
современный человек - человек адаптичный:
|
|
- источник - Внимание! - текст - Мы Главным
событием более чем тысячелетней истории россии большинство ее
жителей считает победу в Великой Отечественной войне. По опросам
вциом середины 90-х годов, этого мнения придерживалось 77-80%
населения. К 2000 году показатели несколько подросли. Если же
верить замерам декабря 2003-го, то уже свыше 85% россиян убеждены:
ничего более значимого, чем эта победа, в нашей истории не было.
на первый взгляд, картинка получается самая радужная: многие годы
патриотического воспитания наконец-то принесли свои плоды. Однако,
по мнению социологов, эти цифры говорят скорее о сужении нашего
исторического кругозора, более того – о кризисе «национальной
идентичности». Так с чем же мы подходим к очередной годовщине
Великой Победы? С какими именно слезами на глазах? И вообще –
кто мы такие?
Павел Рыбкин: Лев Дмитриевич, объясните, пожалуйста, почему оценка Победы как главного события в российской истории вас так тревожит? Лев Гудков: Она тревожит меня не сама по себе, а в качестве симптома – в теснейшей связи с тем, что происходит вокруг нас. Победа – единственная позитивная точка в массовом сознании россиян. Чему же тут радоваться? В списке событий, которые, по мнению опрошенных, определили судьбу страны в ХХ веке, следующие за победой в Великой Отечественной места занимают соответственно: Октябрьская революция, авария на Чернобыльской АЭС, распад СССР, массовые репрессии 30-х, афганская война, Гражданская война, Первая мироваяѕ Нетрудно заметить явное преобладание негатива. Скажем, первые многопартийные выборы в декабре 1993 года отметили только 3%, да и то сразу по их проведении. Сейчас об этом мало кто помнит. Точно так же наше сознание не удерживает ничего содержательного и из дореволюционной истории. Там вообще пустота. О чем это говорит? О том, что советская пропаганда, утверждавшая, что вся русская история – не более чем подготовительный этап для возникновения СССР, сработала прекрасно. Теперь несколько слов собственно о негативе – всех этих авариях, репрессиях, распадах и войнах. Хотим мы того или нет, но история России оказалась лишенной связи с частными интересами людей, а значит, и лишенной смысла. Она либо предстает в виде набора ничем не предопределенных, почти библейских бедствий, либо упорядочивается по модели индивидуального произвола: как решили отцы нации, так и вышло. П.Р.: Простите, но Победа тут при чем? Л.Г.: А при том, что ее культ лишь закрепляет внеиндивидуальное измерение истории, где от воли частных, никак не связанных с властью лиц ничего не зависит. Он закрепляет также монополию государства на некие идеальные ценности, выходящие за пределы повседневного ряда. То есть если человек чтит каких-то своих приватных кумиров, то это с его стороны эгоизм или, хуже того, отщепенство. И наконец, самое тревожное: чрезмерный культ Победы отбрасывает общество назад. Но ведь так было далеко не всегда. Многие уже не помнят, но в число первостепенных праздников Победа вошла только в середине 60-х, причем скорее всего благодаря брежневскому указу, кажется, 1964 года, провозгласившему 9 мая нерабочим днем. До этого 1 Мая было куда более важным и массовым праздником. А между тем именно при Леониде Ильиче началась реставрация имперских амбиций СССР, была реанимирована точка зрения сталинского генералитета на причины войны и ее последствия (например, опять заговорили о внезапности нападения фашистов), утвержден культ ветеранов. Ничего удивительного: произошла смена власти, а значит, понадобились значимые символы, узаконивающие ее. А поскольку ничего другого к тому моменту не было, выбор пал на победу в войне. Сегодня же ее культ свидетельствует скорее о дефиците новых, скажем так, морально-антропологических разработок. То есть 9 Мая закрепляет, помимо всего прочего, еще и особый тип личности, сложившийся в советские годы... П.Р.: Что же это за тип? Л.Г.: Точного определения, наверное, не существует, но можно перечислить основные его черты. Начну несколько издалека. Как ни странно это прозвучит, но предпосылки нынешнего культа Победы возникли еще до войны, в 30-е годы. Именно тогда сталинский режим открестился от всяческой революционности и занялся возрождением имперской идеи. Вместе с тем в СССР стала складываться структура так называемого мобилизационного общества, то есть общества, всегда готового к войне с неким противником. Идея тотального противостояния переносилась на все и вся. Вспомните фразеологию тех лет – сплошные фронты: аграрный, промышленный, культурный. И сплошные битвы – за тот же урожай, к примеру. Все это служило выработке особой, мобилизационной системы ценностей. По нашим замерам, на вопрос: «В какие времена русский человек наиболее полно проявляет свои качества?» – большинство (те же 70-80%) отвечает: в трудные времена. Хорошо, конечно, что мы герои, но если серьезно, все это свидетельствует в первую очередь о презрении к обычной, повседневной жизни, которой живут все люди, но в которой русский человек почему-то совершенно лишается не только позитивных, а вообще всяких качеств. П.Р.: В своей статье «Комплекс жертвы» вы пишете, что, согласно опросам, около 60% россиян позиционируют себя как «простых», «открытых», «искренних» в противовес замкнутому и лицемерному Западу. Но простота и открытость – не просто бескачественные характеристики, в них заметно отсутствие даже установки на автономность. Л.Г.: А вы вдумайтесь, что значит «простой» и «открытый»? С одной стороны, прозрачный и понятный для тебя, такой же, как ты. С другой, что не менее важно, – прошедший через какие-то беды, лишения и затем уже, вроде как поумнев, ставший простым и открытым. Человек, с которым можно пойти в разведку. Налицо героико-аскетический комплекс, неявная апелляция к пограничным ситуациям, где ты должен доказать свою верность истинным идеалам, а по сути – государству, поскольку в мобилизационном обществе именно оно обладает монополией на них. П.Р.: И отсюда все эти «пацаны», «братки», «батяни», «настоящие мужики»? Л.Г.: Конечно. Причем подразумевается, что таким вот бывалым парням, знающим, почем фунт лиха, в обычной жизни незачем вести себя даже попросту прилично. В нормальных условиях они превращаются в некие абсолютно бескачественные сущности, и обращаться к ним смысла не имеет, по крайней мере до тех пор пока не нужно будет идти в разведку. Но оценивать человека с точки зрения неких предельных ситуаций – извращение. «Простота», «открытость», «искренность» – все это и составляет, как говорим мы, социологи, структуру негативной идентичности. П.Р.: А если чуть попроще? Л.Г.: Попроще? Наверное, только перефразируя Декарта: «Я ненавижу, следовательно, существую». И нет ничего удивительного в том, что наряду с увеличением значимости Победы отмечается рост неприязни к инородцам, антиамериканских настроений, причем за последние два-три года – почти в полтора раза. Скажу больше: вне категории «врага» в массовом сознании вообще не происходит никакой самоидентификации. В конце 80-х, к примеру, люди говорили так: «Зачем искать виноватых, если вся проблема – в нас самих». И только процентов 12-15 опрошенных открыто ненавидели евреев, татар, азербайджанцев... Это вообще было очень интересное время, я его называю периодом «черного сознания»: мы хуже всех, мы нация рабов, наша история – бесконечная цепь преступлений и т.д. Тогда 57% населения полагало, что Россия находится на задворках мира, что мы нищая, безрадостная страна и будущего у нас нет. В этом виделся залог движения вперед. Но как только пошли первые результаты реформ, во многом граждан разочаровавших, немедленно начался откат, и вместе с вроде бы безобидной ностальгией по застойным годам вернулись привычные ксенофобские настроения. Через это, разумеется, проходили многие страны – та же Америка, например. Но надо понимать, что многократно обруганная американская политкорректность есть величайшее цивилизаторское достижение. Конечно, она поначалу лицемерна, но ведь с течением времени все это становится нормой, влияет на поведение людей и заметно снижает уровень агрессии в обществе. Еще Адам Смит утверждал, что булочник или мясник будет улыбаться независимо от настроения, если рассчитывает на ваше внимание, и, соответственно, повернется к вам лучшим, что у него есть. Причем будет улыбаться до тех пор, пока это не станет уважением к себе, как к другому. У нас же от советских времен осталось не столько общество в полном смысле слова, сколько некое множество атомизированных людей, объединенных общей зависимостью от власти и такими связями, которые обеспечивают лишь самый минимум запросов и нацелены либо на элементарный комфорт, либо на выживание. П.Р.: Но почему же тогда элита не стремится задать более высокий уровень запросов? Л.Г.: Потому что в строгом смысле элиты у нас нет. Что такое элита? Это люди, демонстрирующие наивысшие достижения в своей области и признанные остальным обществом, прежде всего в отношении статуса и дохода. Это ни в коем случае не аристократия – в современной элите нет и намека на кастовость. Больше того, войти в нее может каждый, если приложит к тому известные усилия, которые, разумеется, будут должным образом оценены. И уж конечно, элита не набор разрозненных группировок со своими местночтимыми святыми. Она создает некие общезначимые образцы – в том числе образцы успеха. Это означает, что должен существовать слой, придающий таким образцам значимость. Из него-то и рекрутируется сама элита. Речь, естественно, о среднем классе, под которым у нас сегодня понимается просто некоторое количество продвинутых потребителей. А между тем это люди, ответственные за воспризнанность элиты у менее обеспеченных и образованных групп населения. П.Р.: Выходит, что и среднего класса у нас тоже нет? Л.Г.: Выходит, так. Но давайте вернемся к элите: прежде чем быть кем-то признанной, она должна просто быть. А ее нет. Ведь что представляла хваленая российская интеллигенция? Обычные госслужащие на окладе. Никакой самодеятельности для них не предусматривалось. Конечно, некоторое сопротивление иногда происходило, особенно после ХХ съезда. Однако те же шестидесятники поставили перед собой совершенно не творческую задачу: хранить культуру. Не развивать, не создавать новые образцы, а просто хранить – вплоть до того счастливого времени, когда ненавистная власть сама себя исчерпает и рухнет. То есть из самых лучших чувств люди, внешне будто бы революционно настроенные, внутри оказались самыми настоящими консерваторами. Между тем консервация – это сохранение тоталитарной установки. Система рухнула. Я, честно говоря, ожидал, что хотя бы у незначительного числа интеллектуалов найдутся какие-то домашние заготовки, как минимум обнаружится готовность к серьезной аналитической работе, ведь количество белых пятен в нашем собственном опыте огромно, и исправление ситуации требует известных усилий. Ничего подобного не случилось. Напротив, некая мутация произошла как раз в среде интеллектуалов. Появился новой тип человека – человек принципиально адаптивный, чьи силы направлены лишь на приспособление к условиям среды. Во всем же, что выходит за пределы его повседневных интересов, он либо нытик, либо циник. Отсюда эти бесконечные жалобы на «развал страны», глумливый стеб, восторг деконструкции, ублюдочный постмодернизм, ставший для большинства более-менее молодых и дееспособных людей единственным средством осмысления реальности. Но и то и другое одинаково пусто по сути. Адаптивный человек стерилен в отношении всего по-настоящему нового. Такие люди просто не в состоянии образовать элиту. Если им вдруг надоедает ныть или глумиться, они начинают чему-то подражать. Например, каким-то образцам религиозной жизни. Но что любопытно, массовое опознание себя нашими гражданами в качестве людей православных (за 12 лет их количество выросло с 16 до 56%) никак не связано даже с соблюдением чисто внешней обрядности, то есть эти новые ортодоксы даже в церковь не ходят. Соответственно, другая половина населения убеждена, что православие – просто очередная мода. Короче говоря, в России произошел самопроизвольный аборт элиты. Иного и не могло произойти, поскольку мобилизационное общество – это, уж простите за социологический суржик, общество с перевернутой структурой мотивации. Ценным считается лишь то, что может быть у всех и каждого (просто у тебя лично чего-то из этого набора пока нет), то же, что может быть только твоим (например, некие интеллектуальные прорывы), в глазах большинства ценности не имеет. При таком положении элита не просто не задает новые образцы поведения, но и спешит обогнать большинство на пути упрощения жизни. Огромное же количество людей вообще толком не знает, чего именно они хотят. Хуже всего чувствуют себя те, кому 45-55 лет. Многим из них ясно, что чего-то главного в жизни уже не добиться. Им рассказали и даже показали, как можно жить, но возможность все-таки упущена, и упущена навсегда. Это отражается и на семейной жизни. Особенно недовольны женщины: разрыв между ними и недовольными мужчинами превышает 15%. Если будет 20%, то сложится ситуация так называемого «ролевого диссонанса». Тогда начнется еще и всеобщий распад семейных отношений, которые при остром дефиците более высоких идеалов ценятся сегодня все же достаточно высоко. Если уж совсем серьезно, то речь идет не о ряде отдельных проблем, а о системном кризисе. И главная беда в том, что кризис, мыслимый вроде бы как явление сугубо временное и переходное, способен воспроизводиться как таковой, именно в своем «кризисном» качестве. Как заметил ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, переходное общество – это часто не общество в состоянии перехода, а особый тип стационарного состояния. Видимо, Россия и есть такой вот стационар. Собственно говоря, ничего не происходит, кроме медленной эрозии старых, еще советских институтов. Новое, конечно, возникает, но оно никак не может закрепиться в таких условиях. Хотите верьте, хотите нет, нужна некая критическая масса идеализма, чтобы все сдвинулось с мертвой точки. Вот только где ж его взять? Вера – она горами движет, но возникает все же только внутри самого человека и больше нигде. Раньше мы надеялись на смену поколений: дескать, совки перемрут, явится племя младое, незнакомое, и жизнь наладится. Это отчасти произошло, но молодые слишком легко принимают наши завоевания и, по некоторым признакам, так же легко их сдают. Повторяю, люди хотят не луны, а того, что есть у всех и каждого. Стандарты повседневного существования, конечно, сдвигаются к лучшему, но настоящего прорыва не происходит, а элита при такой мотивации не рождается. Остается топтаться на месте, утешаясь разве что чувством все более нарастающей стабильности. П.Р.: А что это означает, если вернуться к теме войны и Победы? Л.Г.: В обществе, где война стала тематическим принципом культуры, ничего конструктивного просто и не может быть. В таких условиях другой – чаще всего враг. Его либо боятся, либо – в случае, когда враг повержен, – глумятся над ним. Опросы показывают: базового доверия к действительности у нашего человека нет, он не верит даже самым близким людям – чего уж говорить о публичных социальных институтах вроде армии, милиции или суда, которые ничем иным, кроме как систематическим унижением своих сограждан, никогда не занимались. Однако травма такого унижения может быть только ослаблена, но не изжита, поскольку когда это унижение захватывает всех членов в группе и становится обязательным, даже ритуальным (дедовщина, к примеру), возникает некоторое подобие справедливости, готовность это поддержать, более того – навязать другому. Показательно, что жертва и насильник различаются лишь фазой цикла насилия, а не по существу. Все это снимает с людей чувство ответственности, упреждая чувство вины привычной установкой «все гады». О каком тут взаимном уважении говорить? А между тем именно специфический статус другого как возможного партнера и лег в основу всех без исключения институтов гражданского общества, которого у нас никогда не было и которое мы вот уже почти пятнадцать лет безуспешно пытаемся построить. П.Р.: Но выработать уважение к другому нельзя без того, чтобы не научиться ценить обычную, не экстремальную жизнь, так? Л.Г.: Конечно. Героев у нас и так хватает. Как вы думаете, кто из политиков занимает по популярности второе место после Путина? Все верно – Шойгу. Разрыв между ними, разумеется, очень велик: 50% против 18. Но ведь и весовые категории разные. Путин – это вообще не человек, это фантом. Шойгу – тот все же из плоти, к тому же герой, потому что каждый день попадает в какую-нибудь чрезвычайную ситуацию, где, как мы помним, и проявляется настоящий русский характер. А за его 18% рейтинга – провал. Даже у экстремала Грызлова – всего-то жалкие 9%. Герои – оно, конечно, неплохо. Но их обилие означает, что горизонтом восприятия настоящего по-прежнему остается тотальная война, хотя бы с той же стихией. Подтверждение тому – общий тревожный фон жизни, который сохраняется несмотря на почти единодушное согласие россиян относительно того, что жить все-таки стало лучше и веселее. П.Р.: Чего же соотечественники боятся больше всего? Л.Г.: Потери близких, детей, стихийных бедствий, войны... Правда, страхи в России преимущественно женские. И не потому, что женщины более истеричны, а потому, что они в большей, нежели мужчины, степени социальные существа, чаще берут ответственность, например, за семью. Мужские страхи не слишком разнообразны. Это, в первую очередь, страх потерять работу, затем – страх собственной несостоятельности. П.Р.: Вы не раз отмечали неразвитость наших представлений об успехе. Большинство связывает с успехом материальную обеспеченность, но при этом добавляет в качестве непременных условий состоятельности хорошую семью (свыше 50%), здоровье (свыше 45%), близких друзей (20%), возможность жить как хочется, спокойно и весело (тоже около 20%), то есть такие вещи и смыслы, которые в принципе не соответствуют целенаправленному действию, а скорее являются производными от самых обычных человеческих качеств. При этом желание получить хорошее образование, добиться высокой должности зарегистрировано только у 6% опрошенных, а о славе и известности и вовсе мечтает только 2%. Откуда же берется страх несостоятельности? Л.Г.: За последние годы общество стало все-таки более открытым. Через фильмы, моду, рекламу стали потихоньку утверждаться западные представления об успехе. Уровень запросов вырос. И если раньше у советского человека единственно этот уровень и определял самооценку, причем без всякой связи с реальными достижениями (чего-то добивались только совсем уже запредельные личности, и в основном там, а не у нас, – скажем, Бродский или Барышников), то теперь конкретные результаты труда стали более значимыми. Метафизика неудачничества, родившаяся, наверное, еще в чеховские времена, отмирает. Теперь уже фразами типа «а зато у нас есть духовность» не отмахнешься. Но этого мало. У нас подавлены практически все возможности личного успеха, до сих пор не возникло того, что на языке социологии называется «системой гратификации», то есть признания обществом успехов отдельных его членов. Просто сосредоточенной, целенаправленной работой по-прежнему очень трудно чего-то добиться – все еще необходимы некие экстраординарные обстоятельства: «карьерный лифт», криминальные средства, та же эмиграция, да что угодно, только не аккумуляция собственных усилий и признание их остальными, причем не только по сумме сделанного, а на каждом отдельном этапе. Параметры успеха уже усвоены, благо это несложно, но вот внятных механизмов его достижения пока нет. П.Р.: Каким же образом следует выстраивать эту самую систему гратификации? Л.Г.: Не знаю. Если бы я был Господь Бог, то, наверное, как-то справился бы с этой страной, а так... Нет, не знаю. Потребность в возникновении таких механизмов существует, но она постоянно гасится, и не столько властями, сколько сознанием самого постсоветского человека, который, как я уже говорил, существо по преимуществу адаптивное. Строить собственную биографию, вкладывать в себя, а не просто тратить деньги в свое удовольствие, такие существа не умеют и не могут. Думаю, все дело в том, что должны наконец появиться институты, уравнивающие верховную власть и частного человека. В случае же если ничего не изменится, антропологический тип постсоветского человека будет воспроизводиться точно так же, как воспроизводится системный кризис. П.Р.: Насколько я понимаю, все перечисленные нами проблемы так или иначе были опознаны по тому, как наши сограждане воспринимают победу в Великой Отечественной? Л.Г.: Более или менее. П.Р.: То есть в каком-то смысле получается, что 9 мая мы торжественно отмечаем свою сегодняшнюю несостоятельность как нации? Л.Г.: 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной, больше ничего. П.Р.: Хорошо. Тогда последний вопрос. Если массовое сознание не тождественно индивидуальному, а результаты социологических опросов навевают глубокую печаль, то какой вообще смысл частному человеку следить за ними? Л.Г.: Честно говоря, никакого. Обывателю – причем ни в одной стране мира – не слишком интересно, что именно представляет из себя та социальная или этническая общность, к которой он принадлежит, страна, где он живет, характер власти, которую он вроде бы выбрал, и так далее. Но только на Западе это невнимание означает уверенность во всех этих институтах, а у нас, напротив, тотальное недоверие. А вообще, дело частного человека – работать и добиваться признания плодов этой работы, независимо от того, насколько это трудно или легко. Это и есть его жизнь. Обычная человеческая жизнь. У нас пока она предстает скорее в виде грамотно организованного досуга. Но и это уже неплохо. Я, скажем, большой поклонник глянцевых журналов, которые нынче ругают все кому не лень – с таким видом, будто давно уже причастились к ценностям куда более высоким, чем просто приличный обед в приличном ресторане. По-моему, на массовом уровне только «глянец» и выполняет сейчас по-настоящему цивилизаторскую миссию. Кстати, именно там сейчас реже всего встретишь стеб – почему-то в «глянце» он выглядит особенно неуместным, глупым и беспомощным. Понятно, что это, наверное, самый первый, простейший уровень артикуляции обыденности, но спасибо, что хоть здесь не всегда есть место подвигу и вечному его спутнику – зубоскальству... Павел Рыбкин |
|
main жизнь места сленг стиль трэш справка пособие помощь о сайте студия |